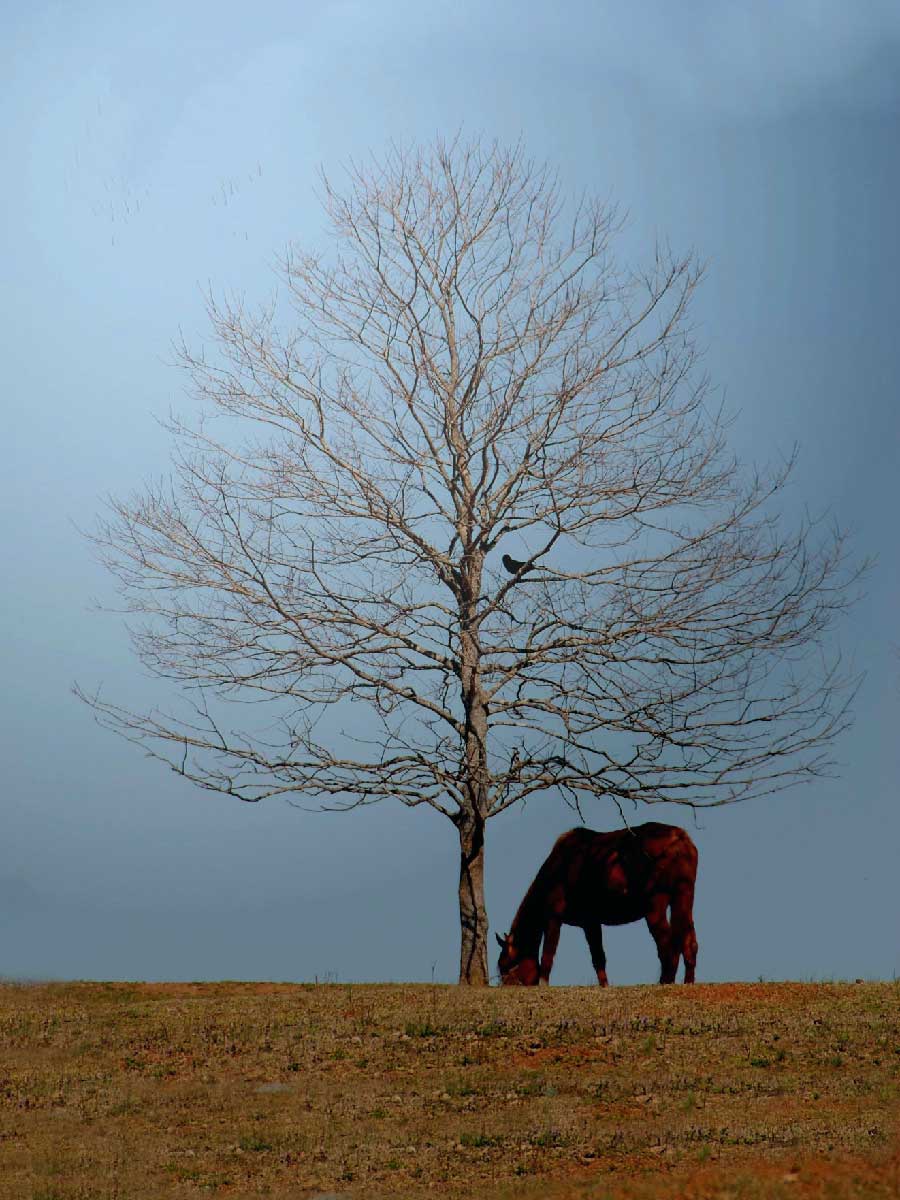В статье дается краткая характеристика мифологическим и космогоническим представлениям, поверьям, существам, запретам и наказаниям, тематически связанным с технологиями прядения и ткачества и бытующими в народном календаре на территории Тамбовской области.
В статье дается краткая характеристика мифологическим и космогоническим представлениям, поверьям, существам, запретам и наказаниям, тематически связанным с технологиями прядения и ткачества и бытующими в народном календаре на территории Тамбовской области.
На бытовом уровне представление о первотворении мира у жителей области в большей степени оказались связанными с изготовлением полотна, ниток и техникой работы: прядением, ткачеством, снованием. В этом отношение региональный материал органично вписывается в общерусский и общеславянский корпус текстов, посвященных тех нике производства и календарной приуроченности [Подробнее см. Кабакова 2001: 234-239; Валенцова 2012: 278-279; Валенцова 2009: 321-328, 328-330, 331-334; Виноградова 2016: 112-120; Павлова 1990; Чумакова 1995; Штукарева 2001].