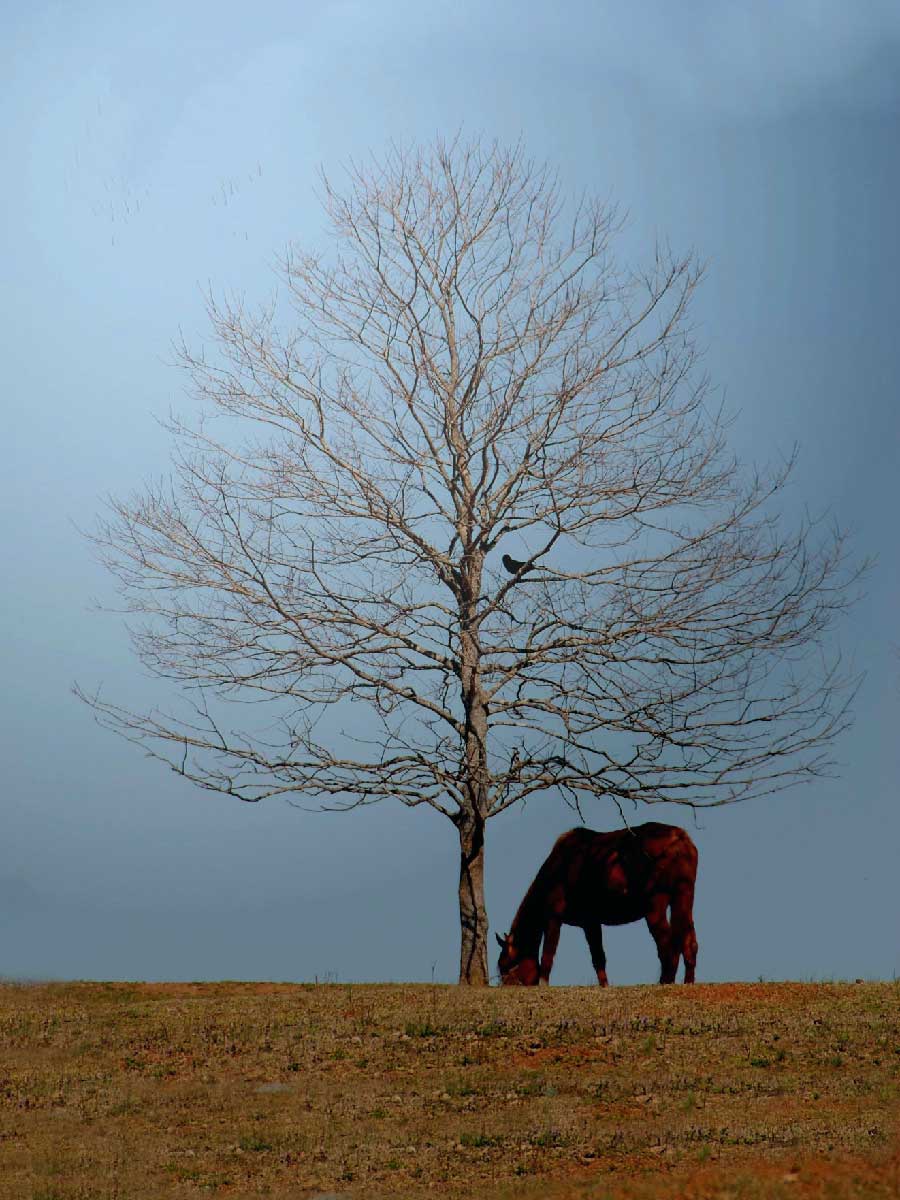![Поминки и пиво Поминки и пиво]() «Приготовление пива было необходимо и для похоронно-поминального обряда, который выделяется среди остальных этапов жизненного цикла особой консервативностью. Как правило, он включал поминальный обед в день похорон и поминки по умершему на третий, девятый, двадцатый и сороковой день. В некоторых уездах пиво варили к первому поминальному обеду, а в других - на поминки сорокового дня.
«Приготовление пива было необходимо и для похоронно-поминального обряда, который выделяется среди остальных этапов жизненного цикла особой консервативностью. Как правило, он включал поминальный обед в день похорон и поминки по умершему на третий, девятый, двадцатый и сороковой день. В некоторых уездах пиво варили к первому поминальному обеду, а в других - на поминки сорокового дня.
В Череповецком у. Новгородской губ., как писал в 1899 г. корреспондент Тенишевского бюро А. Власов, бытовали народные представления о том, что покойник навсегда покидал свой дом только на сороковой день после смерти. Красное место в переднем углу за поминальным столом специально оставляли не занятым. Считалось, что "на нем.… невидимо заседает и трапезует в последний раз в своем доме покойник, для чего перед пустым местом кладут ложку, ломоть хлеба, кусок пирога и ставят кружку пива". В с. Устьнемское Устьсысольского у. Вологодской губ. на сороковой день две женщины с рыданиями и причитаниями провожали из дома ангела умершего родственника с пивом, хлебом и солью. Видимо, от этого обычая и ведет свое происхождение современная традиция ставить рюмку водки и класть кусок хлеба - "покойнику". Гости на сорочинах пили пиво и вино, закусывая пирогами. Прежде чем выпить кружку пива и рюмку вина или начать есть поставленное кушанье, каждый гость крестился и вслух произносил: "Помяни, Господи, раба Божьего (имя)" или: "Дай, Господи, царство небесное рабу Божьему (имя)".
 В щедром месяце августе наступает череда больших земледельческих праздников, связанных со сбором урожая и имеющих древнейшие языческие корни. Ныне эти праздники вмещают в себя и родные, и пришлые обычаи, а зовутся они Спасами.
В щедром месяце августе наступает череда больших земледельческих праздников, связанных со сбором урожая и имеющих древнейшие языческие корни. Ныне эти праздники вмещают в себя и родные, и пришлые обычаи, а зовутся они Спасами.